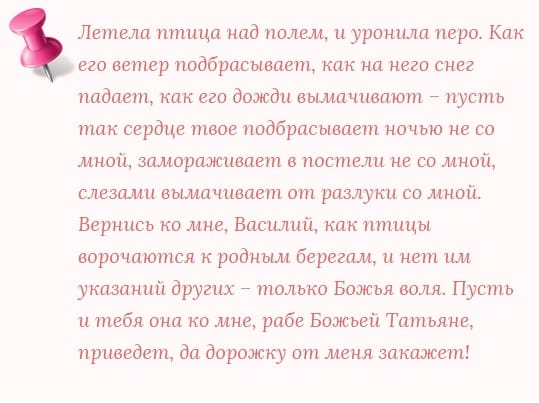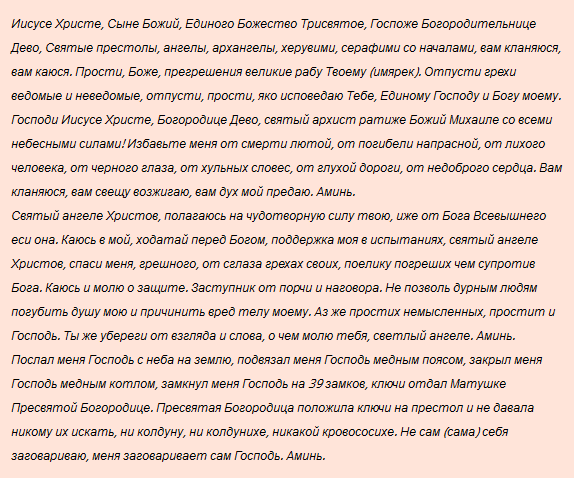Религиозное чтение: и живот наш христу богу предадим молитва в помощь нашим читателям.
И живот наш христу богу предадим молитва
САМИ СЕБЯ И ВЕСЬ ЖИВОТ НАШ
ХРИСТУ БОГУ ПРЕДАДИМ
Часто даже у тех, кто посещает церковь, наблюдаю ущербную веру. «Батюшка, благословите закодироваться» – чтобы сын, муж, жена не пили. Чтобы не болеть, обращаются: «Благословите полечиться» – иерусалимским тестом, квасом, простоквашей и так далее. Многие уверены при этом, что таким образом они полностью предают себя в руки Божии. Откуда это?
С изумленим читаю в одном из пособий для подготовки к исповеди, что есть, оказывается, такой грех – излишнее доверие к Богу. Что этим хотел сказать автор текста, я не знаю, но вот более авторитетный автор, Давид-псалмопевец, возглашал: «Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог нам прибежище».
Был такой смешной случай – досаждала нам муха в алтаре. А отец Пафнутий Жуков вместо того, чтобы гоняться за ней, сказал: «Господи, предай её в мои руки». Муха тут же села ему на правую ладонь и была торжественно вынесена из храма и отпущена с миром. Господь нас слышит даже в такой малости. Но, увы, мы больше доверяемся кодированиям, таблеткам, уколам, не понимаем даже смысла такой известной поговорки, как «на Бога надейся, но сам не плошай». Ведь если не будем надеяться на Господа, то непременно оплошаем.
Да что там о других говорить. На днях позвонил мне старший сын из Ярославля. Ему очень плохо, расстроен, пожигаем обидой на близких. Были бы у меня крылья или вертолёт – тут же полетел бы к нему утешить. Но крыльев нет. Обзваниваю по сотовому тех, кто мог бы сказать сыну доброе слово. Дозвониться ни до кого не могу, и в этот момент на меня накатывает жгучий стыд: рядом храм и любящий Бог, а ты, маловерный, за телефон хватаешься, забыв другие слова псалмопевца: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения». Кто больше сможет помочь, Бог или человеки? Спешу в храм, возжигаю лампады, свечи, облачаюсь и начинаю молиться. Вскоре успокаиваюсь и едва произношу отпуст, телефон звонит не умолкая, меня спрашивают: «Зачем звонил?» Но я уже не в панике, способен принимать здравые решения, находить нужные слова.
Мы – заложники своих близких. Не зря сказано: враги человека – домашние его. Это утверждение шокирует человека маловерующего, но, когда ему пояснишь, что именно близкие нанесли ему больше сердечных ран, чем все остальные, начинает понимать. Домашних наших берут в заложники не вымогатели-террористы, а духи зла – алкоголь, наркомания, игромания. Да так крепко, что мы согласны на любой выкуп. Об этом и говорил Спаситель. И если вера в помощь Божию слаба, мы начинаем уповать на врачей да магов. Но это пустое, если нас с ними не будет вести Господь – кто защитит защитников? Хорошо, если на нашем пути окажется честный, верующий врач, юрист или глава администрации. Хорошо, если эти люди сотрудники у Бога, при рассмотрении наших дел обращаются к Нему или хотя бы помнят о Нём. Тогда наши проблемы могут разрешиться наилучшим способом. Но это едва ли случится, если мы станем искать помощи по своему мятущемуся разумению. А обратишься к недобросовестному человеку – кошмар только усилится.
Святая Церковь призывает верующих: «Сами себя и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим!» Хор отзывается: «Тебе, Господи!» Так мы посвящаем себя Господу, учимся признавать перед лицом Господним: Ты – Любовь, Ты лучше знаешь, что нам и нашим близким нужно для спасения души, Тебе открыты наше будущее и все обстоятельства нашей жизни, никто, кроме Тебя, не знает, как защитить нас от произвола князя лжи и тьмы и его похоти.
Вот умилительная и в то же время печальная картинка. Сижу на притворе церкви, жду грешников на исповедь. Подходит девочка, пигалица лет четырёх, и говорит вполголоса, обращаясь ко мне:
– Бог, ты мне снился. Я тебя очень, очень люблю. Я тебя буду защищать.
– От кого же ты меня будешь защищать?
– А как будешь защищать?
– Кикбоксингом и тэквандо.
Думаю: где же та яблоня, с которой такое яблочко упало? Подходит мама, которую действительно нужно защищать: жизнь у неё неустроенная, сама она себе помочь не в силах. Как я рад её дочке, этой маленькой воительнице, Бог даст, будущей ратоборице за Христа. Но как грустно, что дитя не знает, что оно не одиноко, что есть кому защитить и её, и её маму.
Я и сам узнал об этом не рано, в зрелом возрасте, прежде всё рвался сам защищать. Когда пришёл к вере, помню, как с вечера ложился на кровать, читая Евангелие. Засыпал с Евангелием, а пробуждаясь, находил его или на груди, или где-то рядом, часто с помятыми страницами. Но это сразу, с утра, соединяло меня с Богом и уже на целый день как бы привязывало меня к Нему, я жил под благодатной защитой. Что мы без неё?
Вот радостная ситуация.
Звонит духовная дочь, говорит: «Не знаю, что делать с сыном. Говорит, что не станет больше ходить в хоровую школу, хочет на футбол. Заставить его ходить на пение не могу, батюшка, может уступить?» Сам пытаюсь поговорить с мальчиком, как все отроки, своевольным, упрямым. Скороговоркой объявляет мне, что может обойтись без компьютера и многого другого, лишь бы научиться делать свечи мячом, заколачивать голы. Футболизация всей страны в действии. Нет, я не против футбола, а против мены более стоящего – хора – на овладевшую мальчиком страсть. Заставить тоже не могу, но прошу об одной уступке: предлагаю испросить совета у Господа. Три дня поститься, молиться по мере сил, держать оборону против тех, кто пробуждает в нас страсти. А на третий день принять решение. На третий день мама с сыном договариваются кинуть жребий: как выпадет, так тому и быть. Помолились, бросили. Выпал, разумеется, не футбол. Сын, признавая поражение, мрачно заключает: «Я знаю, Кто тебе помог». «Кто?» – «Бог». Для мальчика этот урок очень важен. Важен он и для матери, она понадеялась на Господа, и вера её не была посрамлена. А представьте, как мы человеческими средствами пытались бы распутать этот узел. Затянули бы его ещё туже. Вот уже неделю радуюсь, что так всё вышло.
И весь живот наш Христу Богу предадим
Автор этих строк, конечно, осведомлен о практикуемой подмене этих и других молитвенных слов в некоторых храмах города Москвы и его окрестностей. Ну, на то он и столичный город, чтобы страдать от избытка ума. Но каковы же были мои удивление и смущение, когда прошедшим летом в Великом Новгороде на богослужении в древнейшей русской обители – Юрьевом мужском монастыре – я услышал новомодную столичную ‘жизнь’ там, где испокон веков стоял ‘живот’. То еще очень важно заметить, что в ограде Юрьева монастыря располагается Новгородское духовное училище. Что же выходит? Что в Новгороде уже даже не упражняются в нововведении, но вовсю ему учат как самому обыкновенному делу? Однако прежде, чем «написанное пером рубить топором», не мешало бы разобраться, насколько необходима эта замена и какими соображениями руководствуются самочинные редакторы богослужебных текстов.
Можно предположить, что замена ‘живота’ на ‘жизнь’ производится на том «серьезном» основании, что слово ‘живот’ непонятно широкой аудитории. Но этот довод очень странен уже по одной той причине, что в русском языке есть хорошо известное выражение не щадя живота своего, и говорить, что употребляемое за богослужением слово ‘живот’ многим непонятно, значит говорить, что многим русским людям непонятен смысл вышеприведенного выражения. Но уместно ли столь невысокое мнение о знании своего языка русскими людьми?
Аргумент о «непонятности» слова ‘живот’ странен не только с частной филологической точки зрения, он странен в принципе. Множество церковнославянских слов непонятно для переступающих порог храма впервые, как и вообще многое в Церкви непонятно для приходящих в нее из мира. Что же тогда, чтобы им было проще освоиться, надо все непонятное разрушить? Однако цель воцерковления состояла и состоит вовсе не в том, чтобы, вычеркнув непонятное, принять из церковной жизни только то, что доступно житейской логике. Истинное воцерковление происходит как раз наоборот – через перемену жизни и выстраивание ее, часто вопреки своей греховной природе и личному разумению, по евангельскому ладу и церковному строю.
И еще одно замечание о «непонятности» слова ‘живот’ можно привести. Осмысленно слушает службу, то есть не только имеет уши ее слышать, но хотя бы попросту старается прислушаться к ней, вовсе не широкая аудитория, а та незначительная часть прихожан, которая из-за регулярного участия в богослужениях может быть названа верной ее частью, и эта часть наверняка знает, что упоминаемый на ектеньях ‘живот’ это вовсе не ‘желудок’. Ради кого же тогда менять слова молитв? Ради тех «захожан», что идут в храмы только потому, что там можно свечку поставить «за здравие», «за упокой» или просто «за все хорошее»? В том же Юрьевом монастыре из сотен ежедневно проходящих через обитель туристов на службе задерживаются единицы. Так неужели только ради этих задержавшихся единиц изменять богослужение, потому как, видите ли, им очень важно услышать вместо слова ‘живот’ именно слово ‘жизнь’? О, если бы им это было важно! И если бы они задерживались в храме для осмысленного участия в молитве… Если бы все приходили в храм действительно для Бога, а не для себя, то есть не для того только, чтобы себе от Бога что-то земное получить, то не было бы нужды словесных замен искать, потому что всем таковым Господь Сам все объясняет.
Другой «весомый» аргумент в пользу замены ‘живота’ на ‘жизнь’ сторонники этого приводят такой: дескать, слово ‘живот’ звучит в церковных стенах немолитвенно и даже неприлично. Но исходя из этого еще более странного, чем о «непонятности», аргумента, надо бы и слово ‘чрево’ заменить на более благозвучное для невоцерковленных ушей слово, например на ‘лоно’. «Благословен плод лона Твоего…» – звучит куда как возвышеннее, чем «Благословен плод чрева Твоего…» И многие другие церковные слова надо бы тогда заменить. Но ни ‘чрева’ ‘лоном’, ни ‘живота’ ‘жизнью’ заменить нельзя, потому что церковнославянское слово ‘живот’ вовсе не означает ту отвлеченную жизнь, которая рисуется нам в выражениях жизнь во вселенной или жизнь под водой, не означает оно и ту семейно-трудовую жизнь, о которой у нас спрашивают при встречах: как жизнь? Что же тогда означает слово ‘живот’ в богослужебных текстах?
Церковнославянское слово ‘живот’означает, как об этом хорошо сказано в словаре протоиерея Григория Дьяченко, «органическое существование, бытие в союзе души и тела». Под «органическим» здесь нужно, конечно же, разуметь существование, связанное с питанием и претворением пищи, а не то хорошо устроенное и налаженное бытие, которое еще можно назвать органичным или организованным. Иными словами, церковнославянское слово ‘живот’ можно определить как семейный со-уз небесной души и перстного тела со всеми его потрохами, без которых, собственно говоря, земной жизни и не бывает. Этот со-уз в церковных текстах еще именуется смешением. Например, в молитве ко святому причащению Симеона Метафраста: «Наше все восприемый смешение от чистых и девственных кровей». Так что с легкостью заменить слово ‘живот’ словом ‘жизнь’ значило бы лишить церковный язык особого, закрепленного за этим словом значения, о котором говорит протоиерей Григорий Дьяченко.
Да, конечно, в приблизительном и, так сказать, округленном значении слово ‘живот’ означает ‘жизнь, существование’, как и другие происходящие от корня жи- слова: ‘жила’ (жизненный нерв), ‘жито’ (необходимые для жизни злаки), ‘пажить’ (место жизни, пастбище). Но ‘живот’ – это особая жизнь, органическая. Причем такое толкование этому слову дает протоиерей Григорий Дьяченко исходя из области его применения в церковных текстах. О том же, насколько многозначным оно было в повседневном употреблении в XV веке нашей истории, можно судить по псковской грамоте-завещанию, которую приводит в своей книге «История русского языка в рассказах» (СПб., 2007) профессор В.В. Колесов.
«Сим я, раба Божия Ульяна, ходя при своем животу, учинила перепись животу своему да и селу своему… деверю своему Ивану до его живота кормити ему» (с. 29). Очевидно, что в первый раз в этой грамоте слово ‘живот’ («ходя при своем животу») употреблено в значении жизнь, вторично («перепись животу своему») в значении имущества и в третий раз («до его живота») в значении смерти. Выходит, что слово ‘живот’ означало в XV веке и жизнь, и имущество, и смерть, то есть вбирало в себя все самое главное, что есть в земной жизни и о чем как о самом главном пишут в завещаниях.
«Ну, так это и требовалось доказать! – радостно скажут “животоборцы”. – Если в XV веке слово ‘живот’ заключало в себе такое разнообразие значений, то в XXI веке столь же многозначным стало слово ‘жизнь’, которое вытеснило на обочину языка отслужившее свою службу, явно устаревшее и даже мешающее правильному пониманию церковных текстов слово ‘живот’. И поэтому если произносимое в XV веке прошение ектеньи “и весь живот наш Христу Богу предадим” означало предание Христу Богу всего, что имел человек: его жизни, имущества и даже смерти, то, чтобы адекватно передать смысл этого прошения в XXI веке, необходимо слово ‘живот’ заменить на слово ‘жизнь’».
Хорошо, давайте разбираться с этим аргументом замены, который назовем аргументом «адекватного понимания».
Как известно, чтобы адекватно, или, по-русски говоря, правильно и точно, понять значение какого-либо слова или выражения, нужно рассмотреть его контекст, то есть словесное окружение, и чем шире это окружение, тем адекватнее понимание. Поэтому я предлагаю рассмотреть слово ‘живот’ в контексте не нескольких ближайших предложений, но всего церковнославянского языка. И даже настаиваю на этом условии по той причине, что в церковнославянском языке есть слова, которые нынче, как и ‘живот’, вобрали в себя современное слово ‘жизнь’, но которые в том же XV веке имели вполне отличные и самостоятельные значения. Какие это слова?
…жизни Подателю – это о Святом Духе.
…да тихое и безмолвное житие поживем – это о жизни буднично-бытовой.
…идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная – это уже о совершенно иной, неземной жизни.
Последний пример взят из панихиды. В этом молитвенном чине, совершаемом об упокоении усопших, различие слов ‘жизнь’ ‘житие’ и ‘живот’ видится особо наглядно. Так, в тропарях панихиды поется: «Агнца Божия проповедавше, и заклани бывше якоже агнцы, и к жизни нестареемой, святии, и присносущней преставльшеся… В путь узкий хождшие прискорбный, вси в житии крест яко ярем вземшии… Воистинну суета всяческая, житие же сень и соние… Всесвятая Богородице, во время живота моего не остави мене… Со духи праведных скончавшихся душы раб Твоих Спасе, упокой, сохраняя их во блаженней жизни, яже у Тебе Человеколюбче… Яко Ты еси Воскресение, Живот и покой усопших рабов Твоих…»
Смысловое различие слов ‘жизнь’, ‘житие’ и ‘живот’ здесь видно без пояснений. Разве что в последнем предложении (это начало священнического возгласа, завершающего каждую заупокойную ектенью), кажется, что вместо слова ‘живот’ уместнее слово ‘жизнь’, поскольку усопшие «органического существования в союзе души и тела» иметь не могут, и Сам Христос для них является скорее ‘жизнью’, чем ‘животом’. Но это только кажется, что уместнее. На самом деле связь души с телом не прерывается и по смерти последнего. Эта связь уже, конечно, не имеет своего прежнего непосредственного характера, но от утраты его своей крепости не теряет. В Синаксаре в субботу мясопустную так говорится о причинах поминовения усопших, установленного святой Церковью в 3-й, 9-й и 40-й дни по смерти: «Третины убо творим, яко в третий день человек вида изменяется. Девятины, яко тогда все растичется здание, храниму сердцу единому. Четыредесятины же, яко и самое сердце тогда погибает. И рождение бо сице происходит: в третий бо день живописуется сердце, в девятый же составляется в плоть, в четыредесятый же в совершенный вид воображается. За сию вину душам память творим».
Изменения происходят с телами, а поминовения творим душам. Почему? Да потому что таинственная связь души и тела не прекращается даже в то время, когда душа пребывает на небе в ожидании Страшного суда, а тело в глубине могилы проходит предназначенный ему от Бога «путь всея земли» (3 Цар. 2: 2). И в день всеобщего воскресения душа найдет свое тело (каким оно тогда будет – это особый вопрос) и соединится с ним, но уже для иного живота и иной совместной жизни, неизменной и бесконечной. Поэтому в ектенье об усопших, как и в ектенье о живых, употребляется слово, передающее связь души со своим телом – ‘живот’.
Слово ‘живот’ в возгласе «Яко Ты еси Воскресение, Живот и покой усопших рабов Твоих…» стоит на своем месте в полном согласии с Евангелием. Бог наш «несть Бог мертвых, но Бог живых» (Мф. 22: 32). Святая Церковь не противопоставляет живых и умерших, не разводит их по разным углам бытия, но соединяет в едином теле, которым она сама и является и глава которого – Христос. И мысль об единстве живых и умерших в этом теле особо подчеркивается в заключительном прошении великой ектеньи на панихиде: «Милости Божия, Царства Небеснаго, и оставления грехов испросивше тем (то есть усопшим) и сами себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим».
Подобный вопрос о «живых» и «умерших» может возникнуть при разборе Пасхального тропаря. Кого следует понимать под «сущими во гробех», которым Господь «живот дарова»? Только ли тех, которые «изшедше из гроб по воскресении Его, внидоша во святый град и явишася мнозем» (Мф. 27: 52)? Конечно их, но много более их под «сущими во гробех» разумеются ныне живущие, ощутившие радость своего из гроба безверия воскресения и «иного жития вечнаго начало». Кстати, в последнем примере мы видим, как слово ‘житие’ в соединении со словом ‘вечный’ приобретает совершенно особый, так сказать, пасхальный вкус и смысл. Этот же пример доказывает и то, что располагать слова ‘жизнь’, ‘живот’ и ‘житие’ по временной шкале таким образом, что, дескать, слово ‘житие’ означает нечто преходяще-бытовое, ‘жизнь’ – возвышенно-вечное, а ‘живот’ занимает промежуточное между ними положение, будет неверно уже потому, что все три этих слова церковнославянский язык соединяет со словом ‘вечный’: «…иного жития вечнаго начало» (тропарь 7-й песни Пасхального канона); «…да будет же ми в живот вечный и безсмертный» (кондак канона ко святому причащению); «…да причастницы жизни вечныя будем» (окончание песни, исполняемой вместо Херувимской на литургии Преждеосвященных даров).
Разница слов ‘жизнь’, ‘живот’ и ‘житие’ вовсе не так очевидна, чтобы ее можно было описать в нескольких предложениях. За каждым из этих слов стоит особый смысл, который в разных контекстах обрастает десятками разных значений, и все их бережно хранит церковнославянский язык, всеми мудро пользуется.
И многое множество других примеров, by heart (англ. – наизусть; буквально – ‘сердцем’), известных церковным людям из богослужебных текстов, можно привести, подтверждающих, что не один ‘живот’ в церковнославянском языке восседает, но три разных слова в нем из молитвы в молитву перетекают.
Каким же из этих слов можно наиболее адекватно передать значение слова ‘живот’, допустим, в прошении «прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим»? Слово ‘житие’ здесь никак не годится, потому что у него своя, довольно узкая сфера применения. Могло бы подойти слово ‘жизнь’, но если заменять им слово ‘живот’, то чем заменить слово ‘жизнь’ там, где оно в церковных текстах стоит изначально, как, например, в молитве Святому Духу? Так ‘жизнью’ и оставить? Но такая замена будет всего-навсего смешением двух различных понятий, которые заключают в себе слова ‘жизнь’ и ‘живот’, в одном слове ‘жизнь’. Что же делать? Cмириться с тем, что наиболее адекватно смысл слова ‘живот’ передает именно слово ‘живот’. И согласиться с тем, что вторгаться в церковнославянский язык с современными русскими словами – значит нарушать его функциональную систему, значит загрязнять экологию церковнославянского языка.
Приспособить церковные тексты к пониманию современного человека – дело нехитрое. Сложнее приспособить понимание современного человека к церковным текстам. Но чем труднее, тем и благодатнее, потому что главное правило духовной жизни «отдай кровь и приими дух» применимо не только к посту и молитве, но и ко всякому совершаемому ради Бога труду, тому же изучению языка. Изучение, осмысление, вникание, вживание в церковный язык – это очень даже благодатный труд. Зачем же с самого порога лишать неофита этого труда и даруемой за него духовной радости? И если подавший чашу холодной воды во имя ученика награждается, то открывший ради Господа словарь церковнославянского языка, чтобы узнать там значение каких-то непонятных слов, надо думать, тоже «не погубит мзды своея» (Мф. 10: 42).
Выше приводилось церковное толкование слова ‘живот’, то есть то, как его понимает священник и церковный ученый протоиерей Григорий Дьяченко. Интересно сравнить, как понимает это слово тот, кто, хотя по роду своей профессии и работает с церковными текстами, но весьма далек от их проблематики и по существу далек от Церкви. Прощу прощения, если я ошибаюсь, хотя, судя по содержанию книги «История русского языка в рассказах», трудно на этот счет ошибиться. Итак, что же говорит о значении слова ‘живот’ доктор филологических наук В.В. Колесов?
«Прежде живот (здесь и далее выделено автором. – свящ. Г.С.) вообще означал только физическое проявление жизни, для передачи других ее сторон имелись иные слова: духовная – жизнь, материальная – житье. До сих пор в прилагательных, образованных от этих трех слов, сохранилась первоначальная дробность значений; сравните: жизненная идея, житейское дело и животная злоба – трудно переставить местами эти прилагательные!» (с. 29).
Мы видим, что «мирское» определение («физическое проявление жизни») нисколько не противоречит «церковному» определению слова ‘живот’ («органическое существование, бытие в союзе тела и души»). И этот смысл, вкладываемый в него двумя столь разными исследователями церковнославянского языка, в свою очередь не противоречит трем значениям слова ‘живот’, в каких оно употреблено в псковской грамоте-завещании, поскольку все три значения (и жизнь, и имущество, и смерть) относятся именно к физической стороне жизни, а не к духовной и не к материальной. «А вот и нет, – возразит внимательный читатель, – второй раз в слове ‘живот’ (“учинила перепись животу своему”) подразумевается материальный достаток». И все же внимательный читатель ошибается, речь и здесь идет о физическом проявлении жизни, а не о материальном. Почему?
Дело в том, что хотя, действительно, под словами «учинила перепись животу своему» раба Божия Иулиания подразумевает свое имущество, но оно вернее и точнее должно быть названо именно ‘животом’, а не ‘житьем’, потому что это ее имущество – одушевленное, живое, это Ульянин скот. А о неодушевленном имуществе, то есть таком, какое бы мы сейчас назвали недвижимым, она говорит особо, как о «селе своем», то есть о поле, пашне.
Вот еще, оказывается, что подразумевалось под словом ‘живот’ – домашняя живность, скотина, в отличие от зверя дикого, неприрученного. И это его значение, видимо, стало причиной того, что начавшееся с XIV века, по слову проф. Колесова, «колебание» в значении слова ‘живот’ привело его, образно говоря, к падению. Начав колебаться в значении, слово ‘живот’ к XXI веку окончательно уронило свое достоинство, чему мы все являемся свидетелями, потому как, слыша это слово, мы первым делом представляем органы пищеварения и ту часть тела, в которой они заключены. Вот почему и весь этот сыр-бор с заменой слов в богослужебных текстах разгорается. Если в прежние века слова ‘жизнь’, ‘живот’ и ‘житие’ стояли друг подле друга почти в равном достоинстве и указывали, упрощенно говоря, на проявления жизни в трех различных сферах: духовной, душевной и телесной, то нынче слово ‘жизнь’ возвысилось до значения, так сказать, «жизни вообще», ‘житие’ стало малоупотребительным (редко, но еще можно услышать в разговорном языке слово ‘житьё’ или родственное ‘прожитьё’), а ‘живот’ резко опустилось.
Нынче некогда счастливый «союз тела и души» в слове ‘живот’ окончательно распался, «душа» покинула его, и потому кажется неуместным в конце ектении, после поминовения Пресвятой Богородицы и всех святых, взять и этот самый живот со всем его содержимым назвать. Но для нашей богослужебной древности это выглядело очень даже благолепно и чинно. Именно в конце ектении, после многих прошений, после призывания Богородицы и всех святых, и о своем животе словечко замолвить, и о своей – знаете, есть такое ласковое слово животинка, которым селяне называют своих коровок и которое еще хранит в себе, в отличие от животного, взаимную любовь души и тела, – и о ней, своей животинке, Христа Бога попросить – это, конечно, было весьма пристойно и умилительно. Под животинкой в последнем случае я разумел не коров, но свой собственный по-коровьи протекаемый живот, недостойный называться жизнью.
Допустим, что все это более или менее понятно, но распавшийся «союз души и тела» объяснениями не восстановишь. Смысловое равновесие души и тела в слове ‘живот’ нарушилось и сместилось в сторону тела, в итоге его общее содержание оказалось приземленным. И потому, чтобы удержать на должном уровне высоту богослужебных текстов, современные метафрасты (греч. – пересказчик, переводчик) вынуждены искать замену сему несправедливо обиженному слову.
Но что происходит, когда мы заменяем «органические» слова словами, не имеющими в себе «кровеносной системы», словами отвлеченными, словами-категориями, то есть ‘живот’ – ‘жизнью’, ‘чрево’ – ‘лоном’ и т.д.? А то и происходит, что наша жизнь становится от этого все более отвлеченной и все более неживой. Отказываясь от старинных слов с «органикой», мы добровольно снижаем «урожайность» языка, так как иссушаем, истощаем его корни, следовательно, истощаем и корни живота своего.